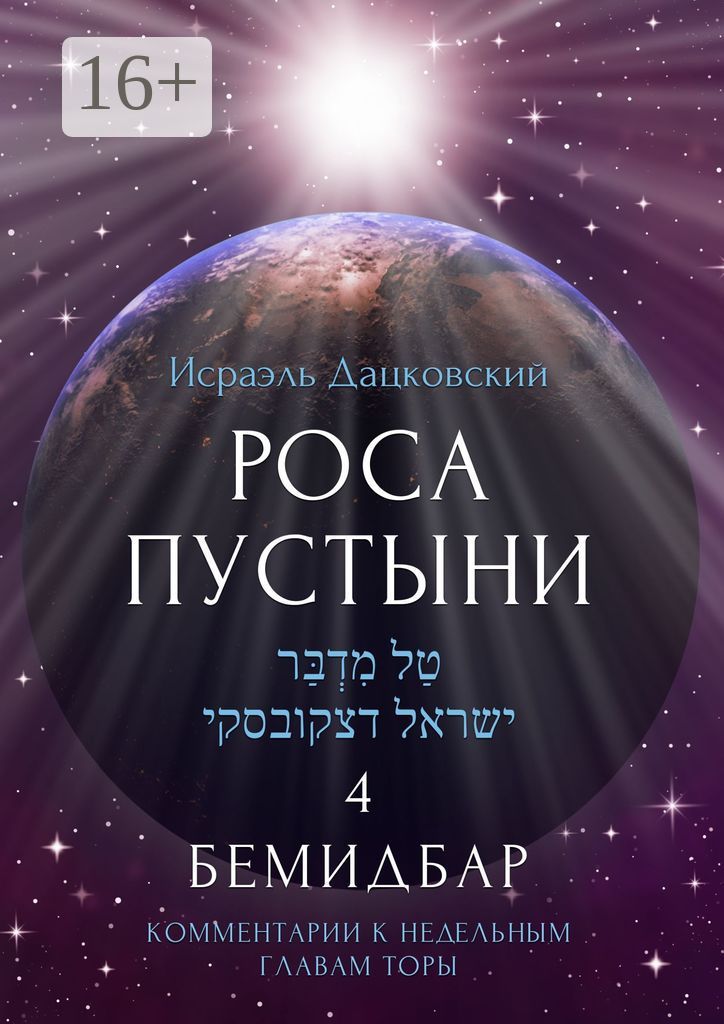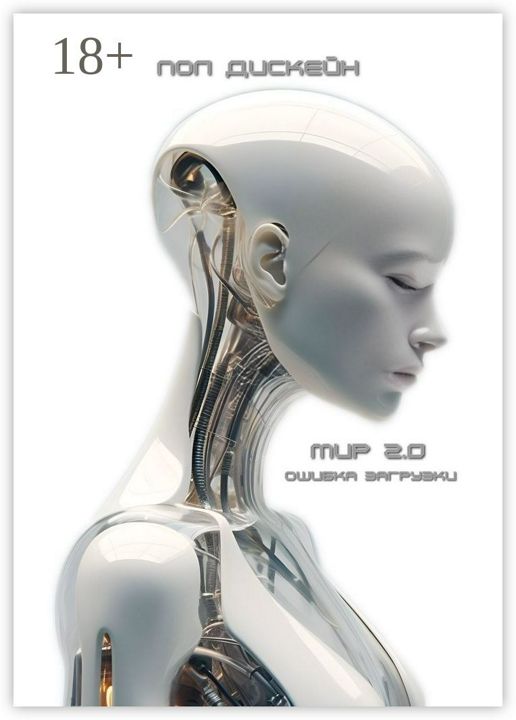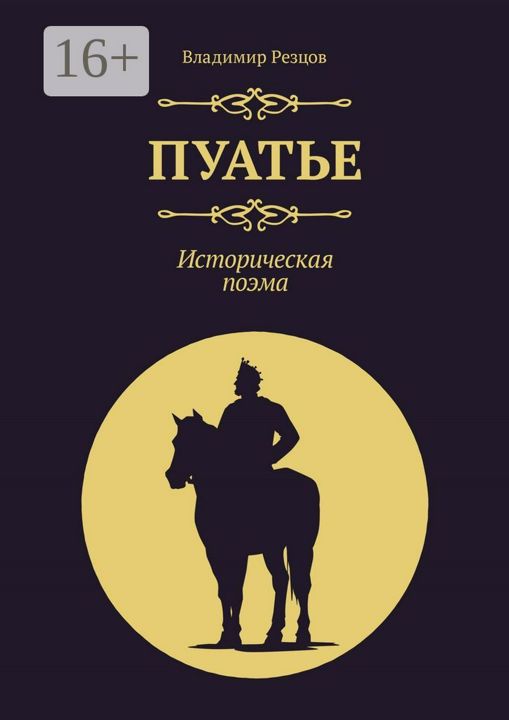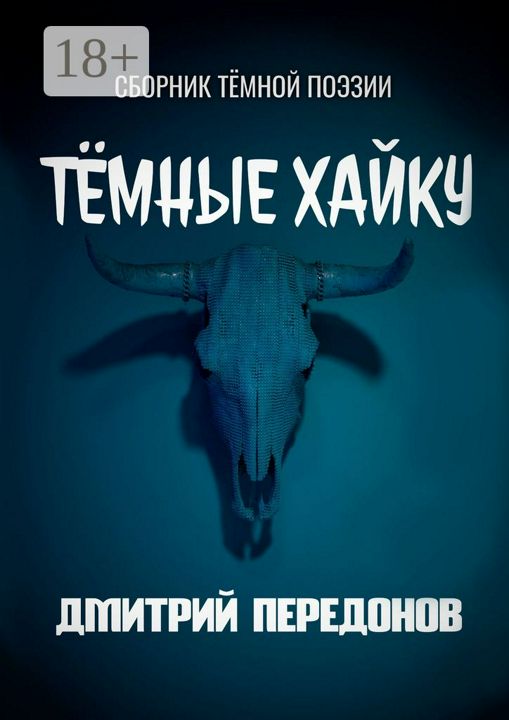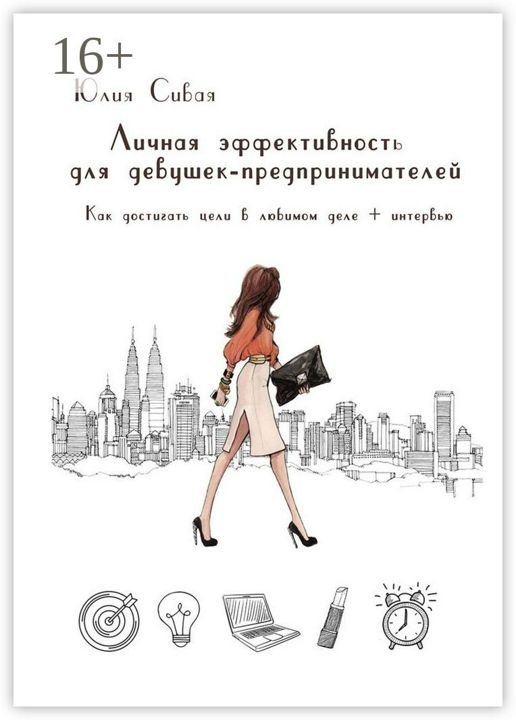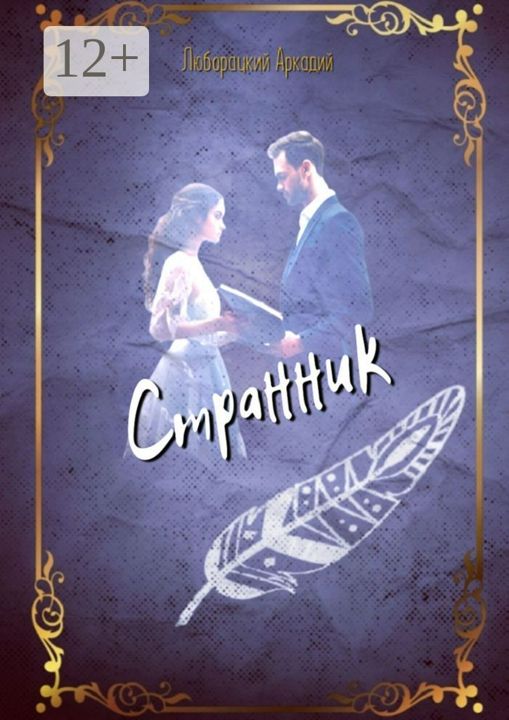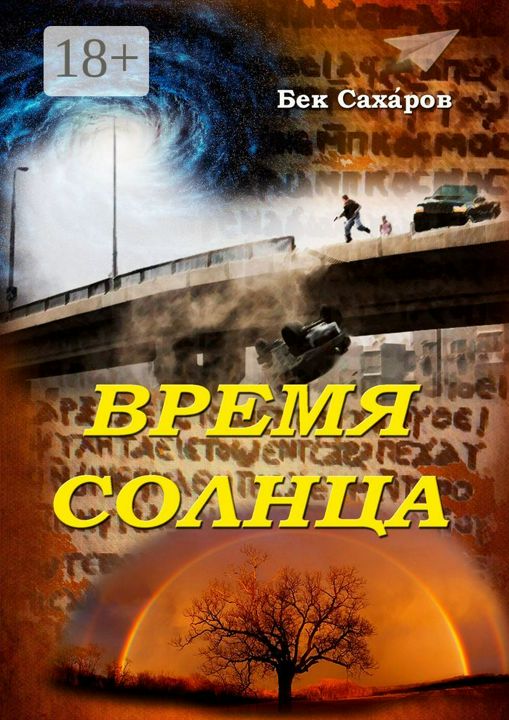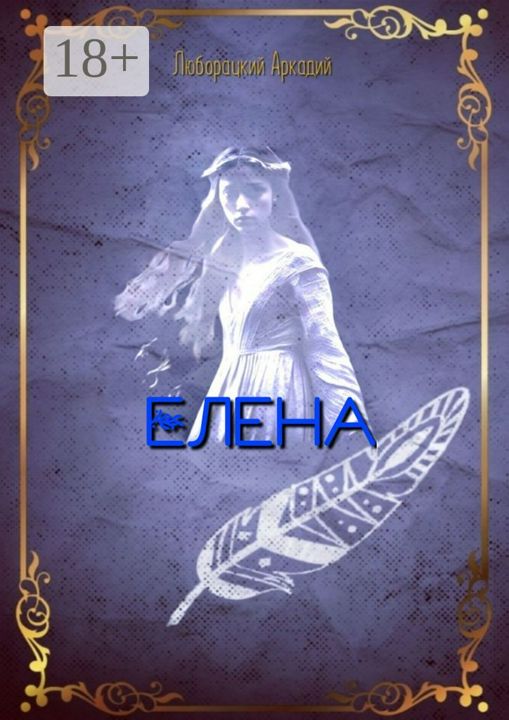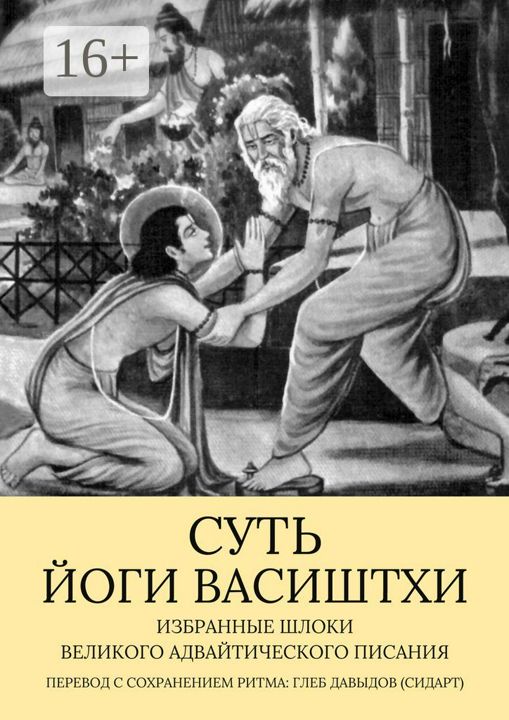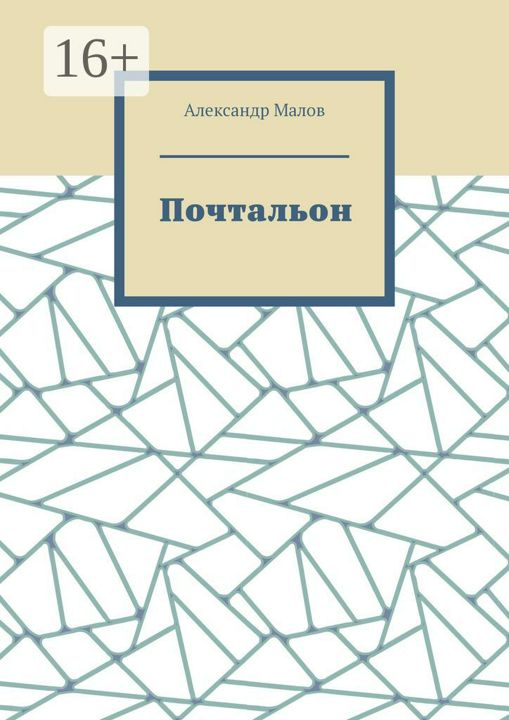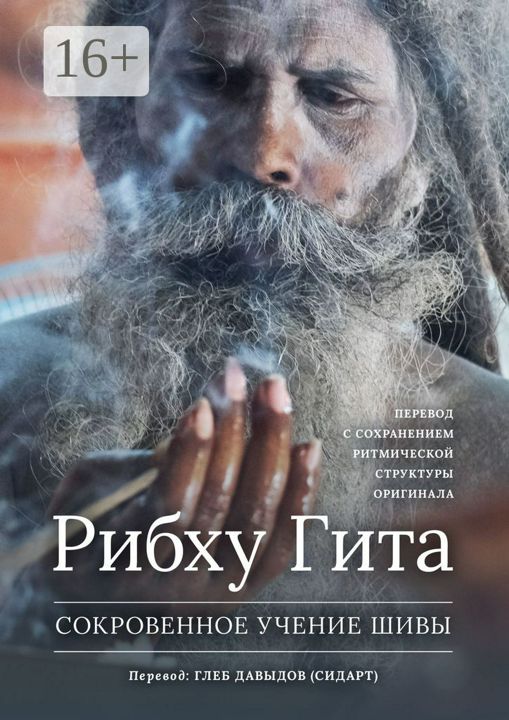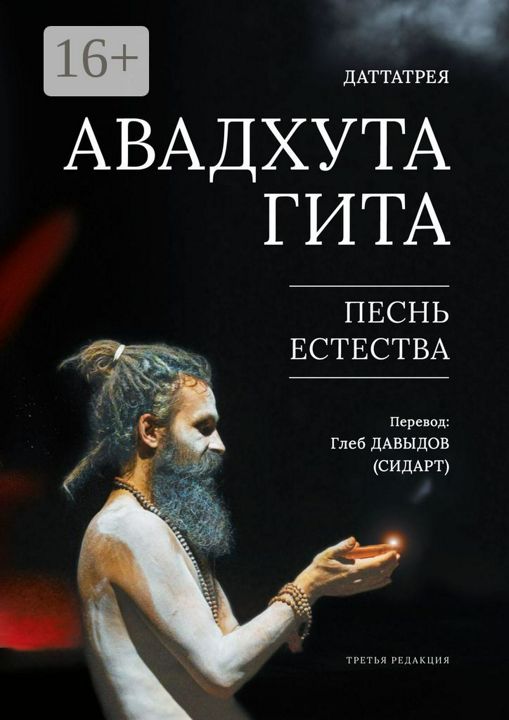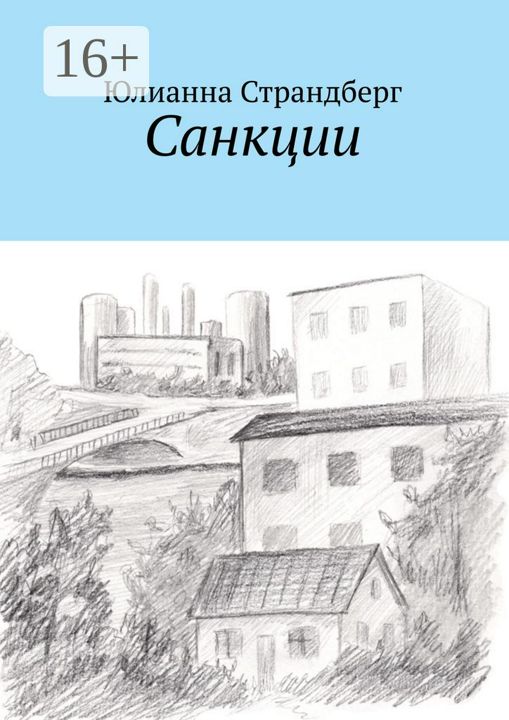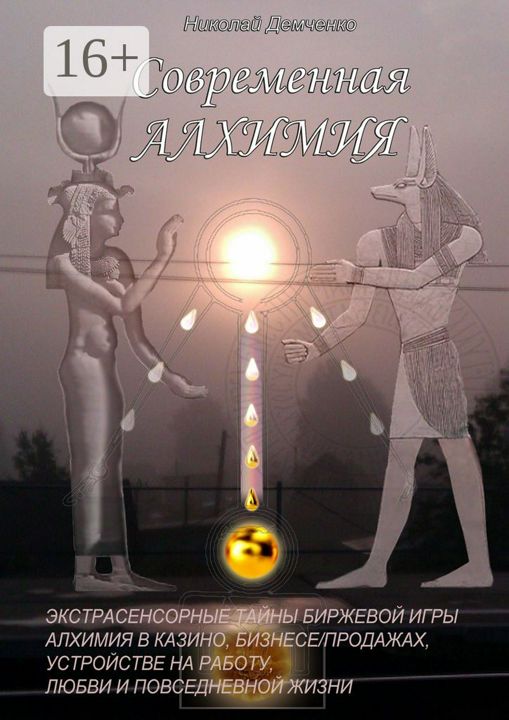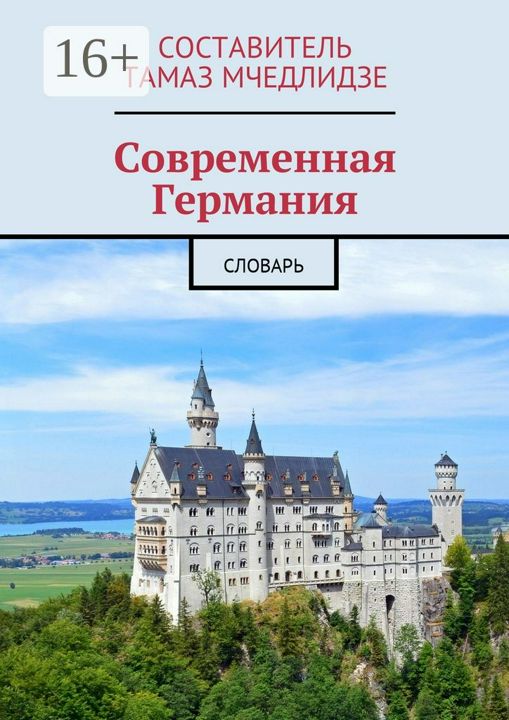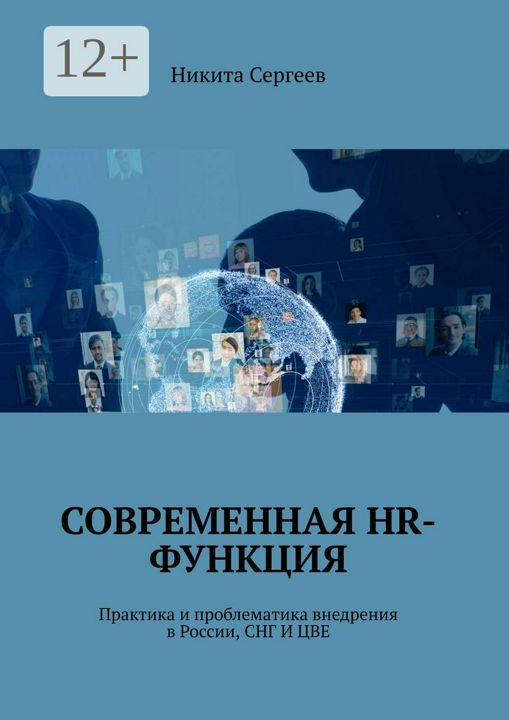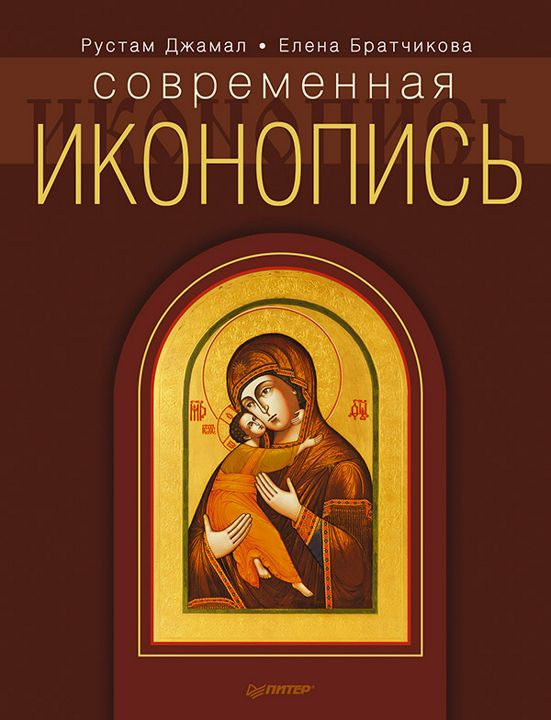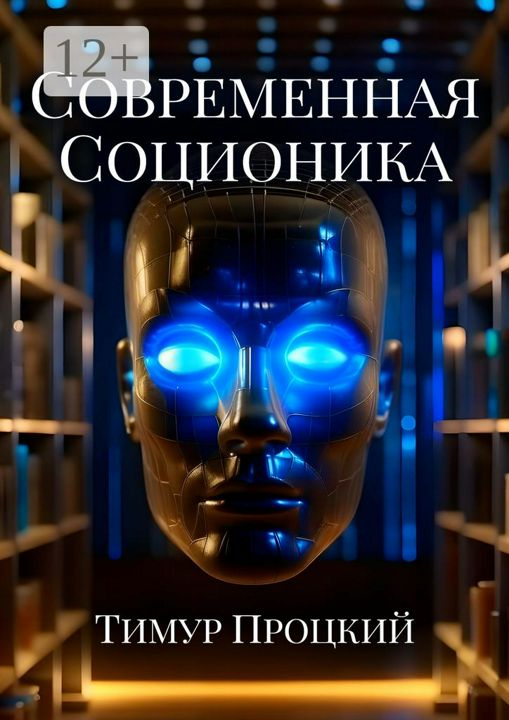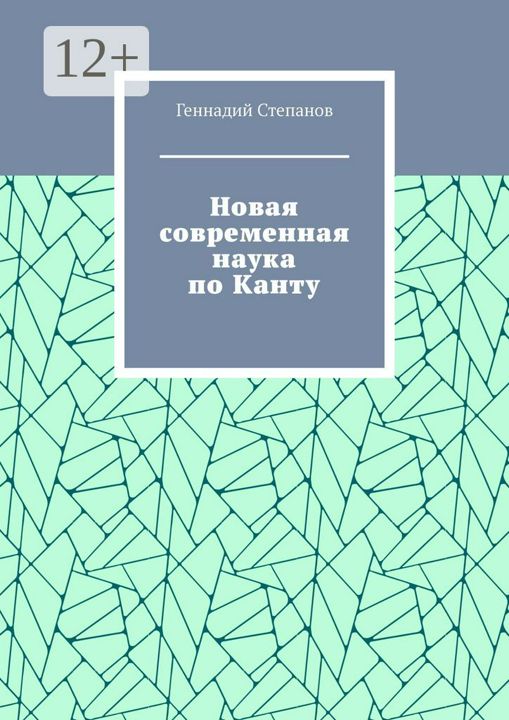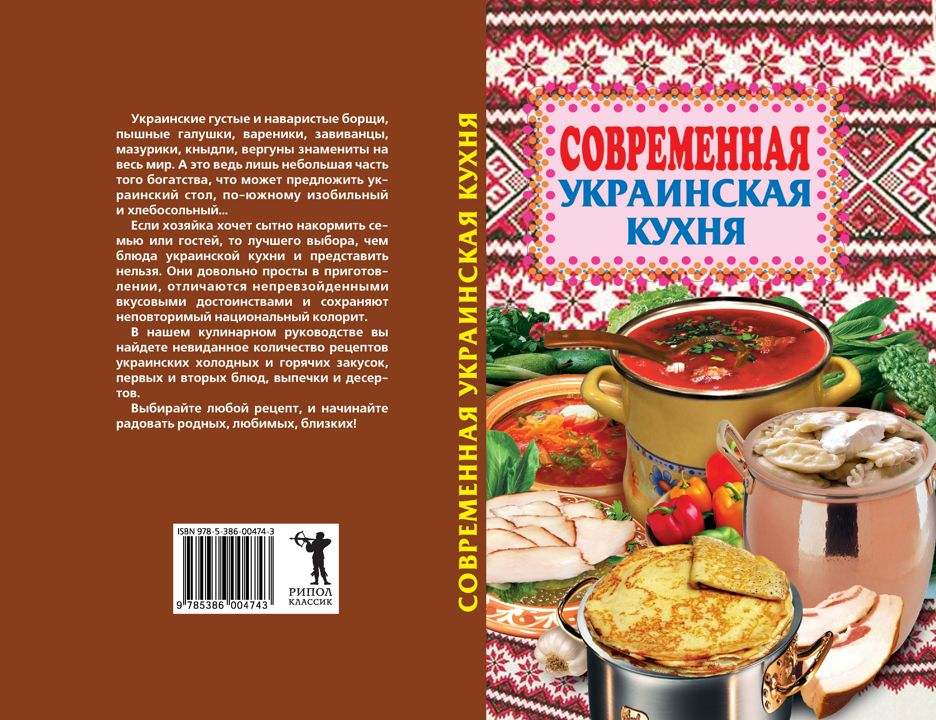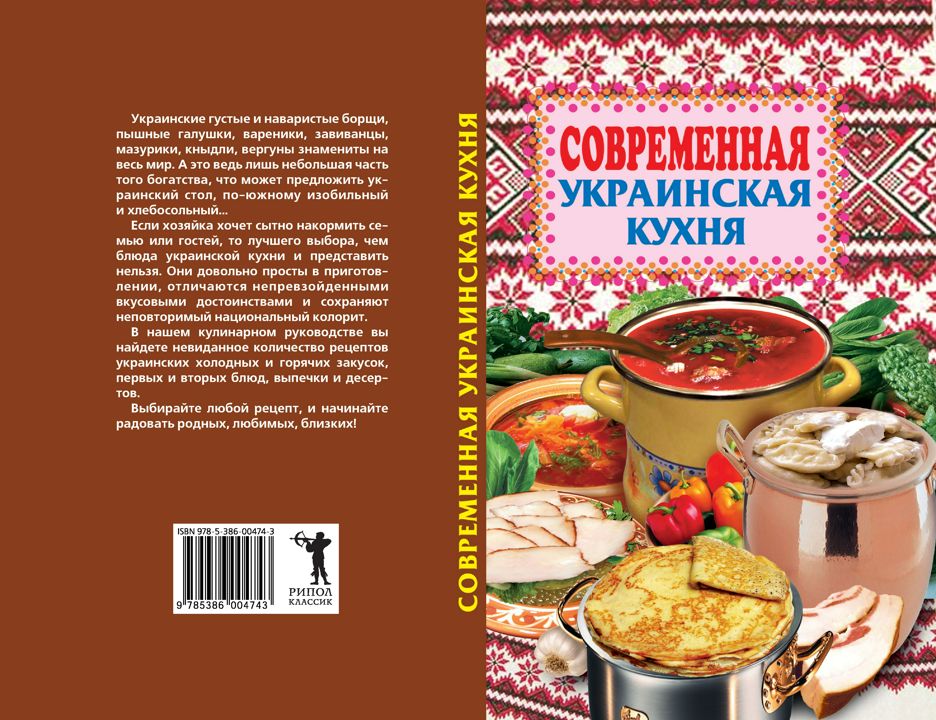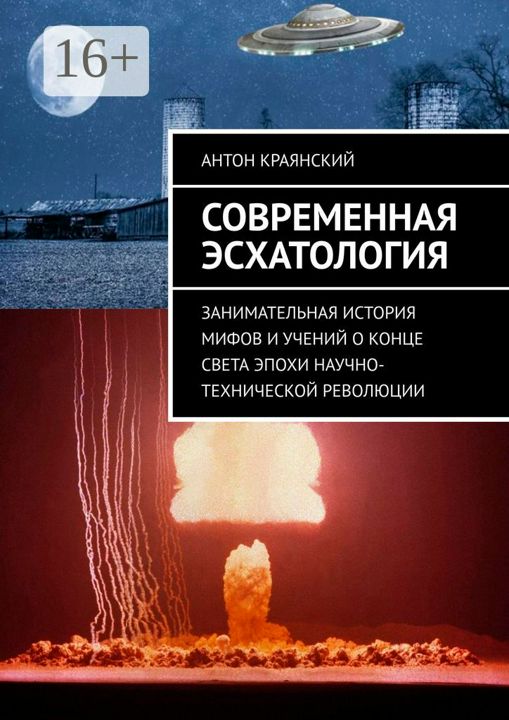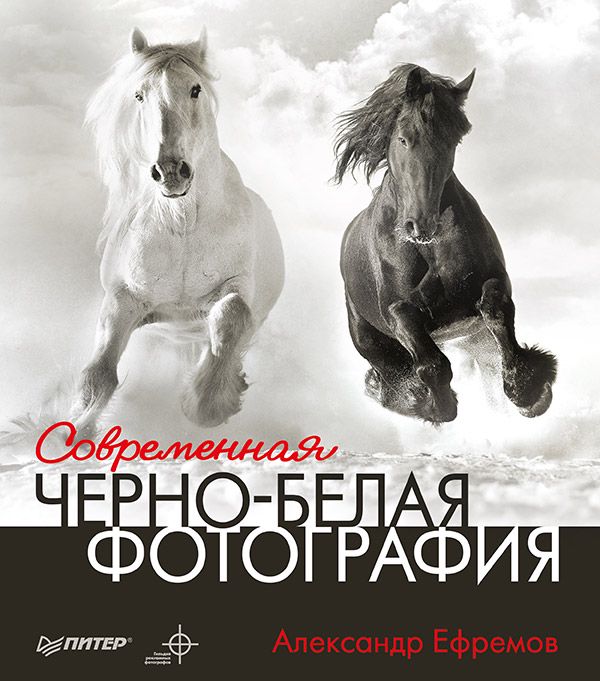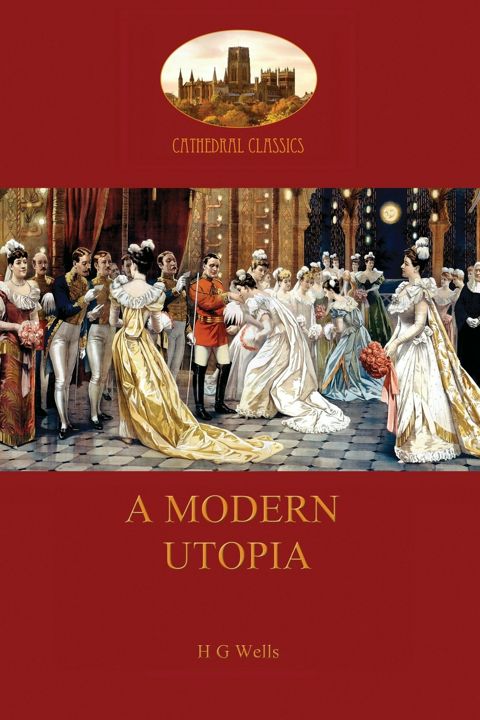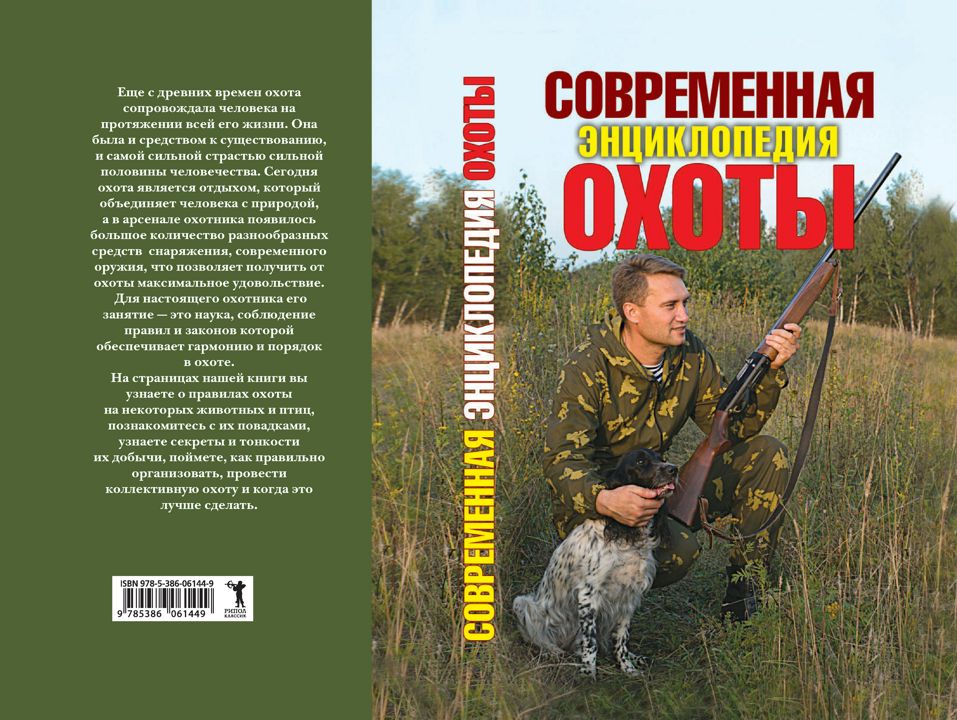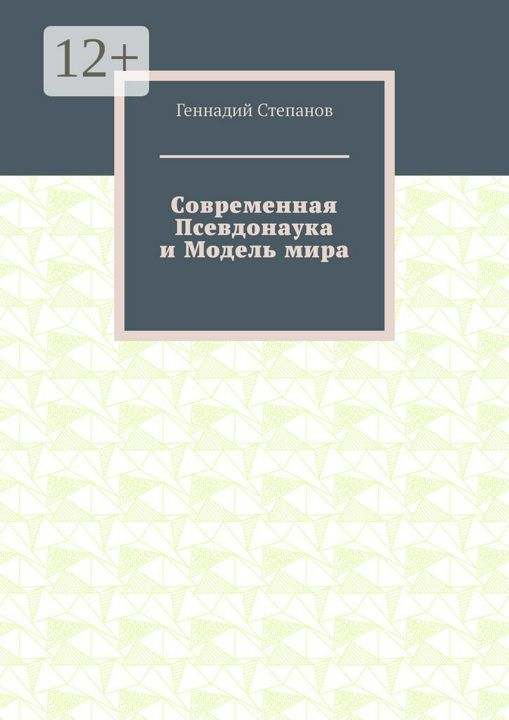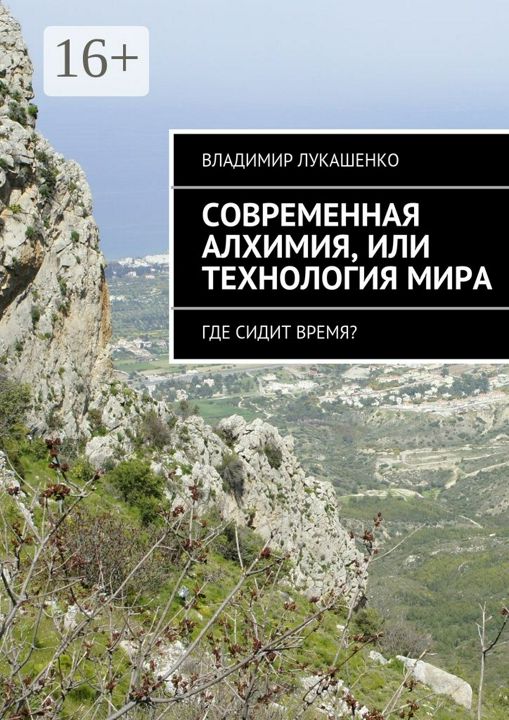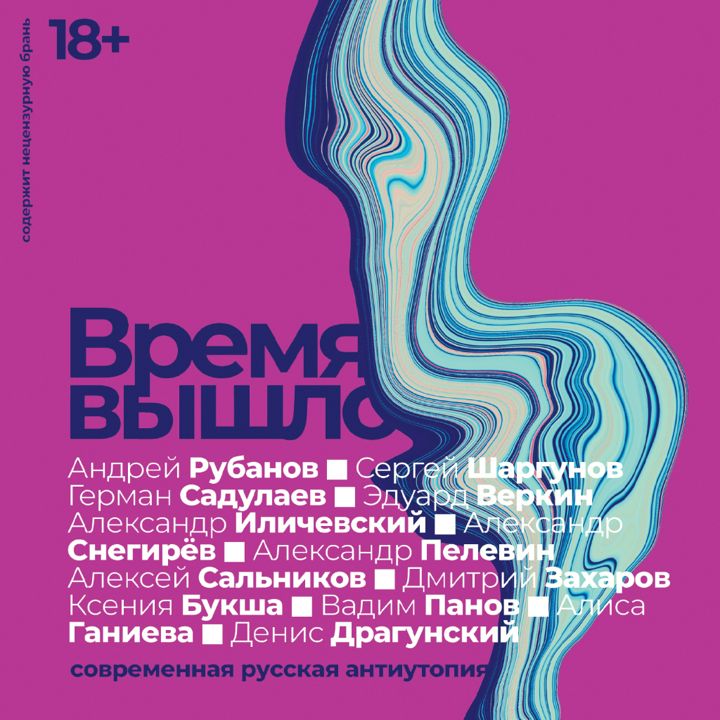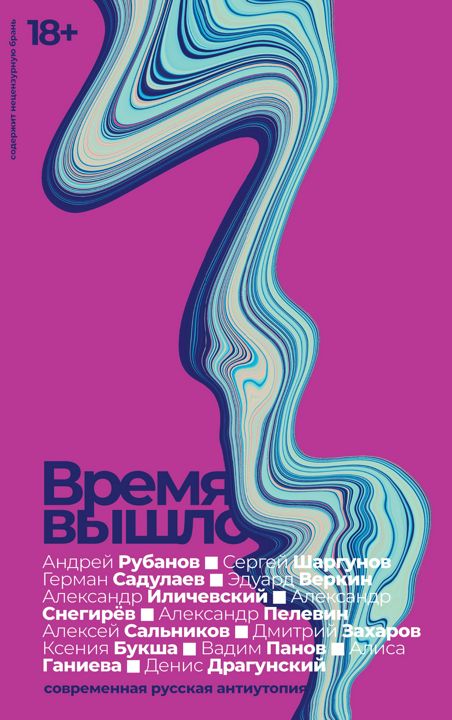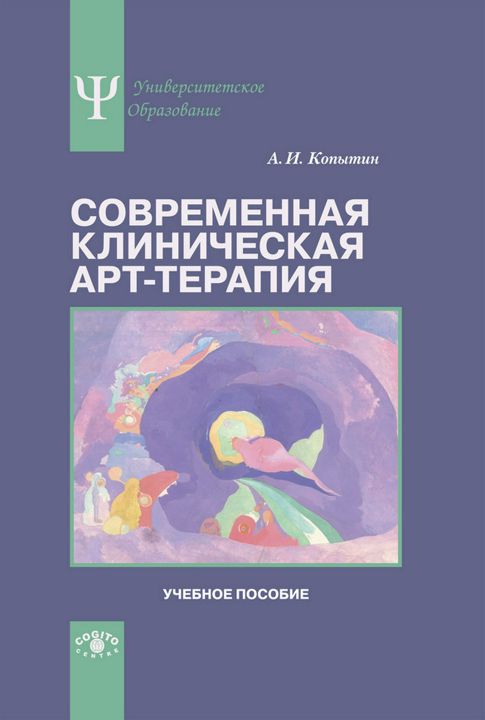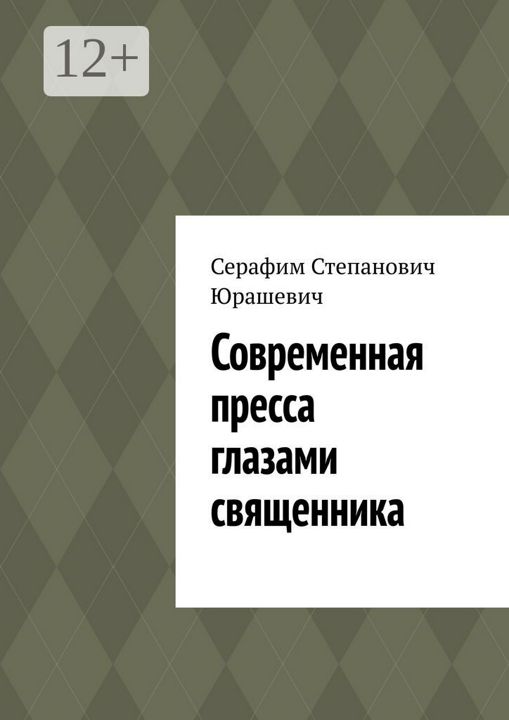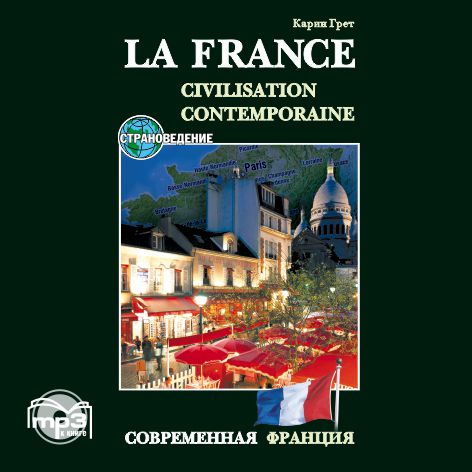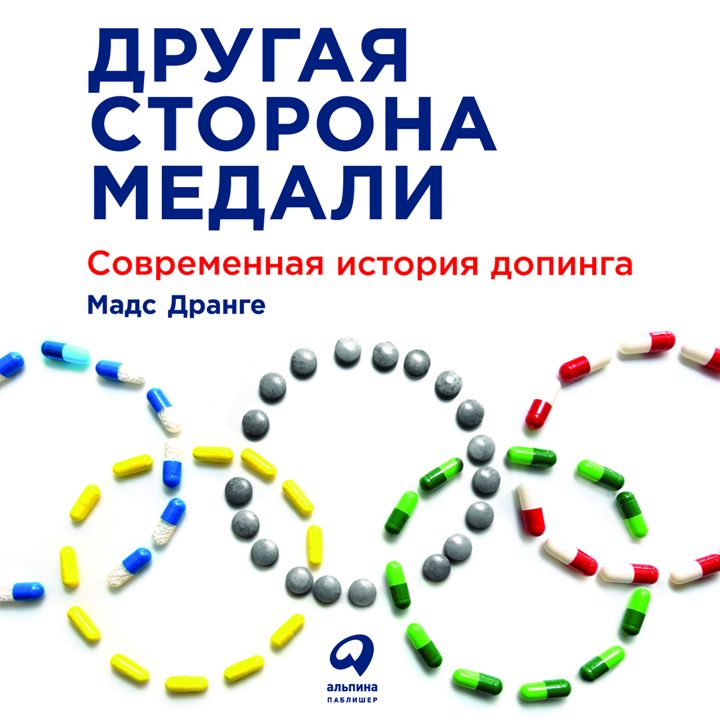Роса пустыни 4. Бемидбар
Нет оценок
Более 10просмотров
Менее 10покупок
18+
Описание
Характеристики
Цитаты
Отзывы
В данном томе приведен комментарий на недельные главы четвертой книги Пятикнижия - Бемидбар. Комментарий является анализом простого смысла прямого текста Торы и основан на разъяснениях признанных еврейских мудрецов. При этом он является полностью новым, не боится предлагать, по выражению РАШИ, "иное мнение" даже на достаточно установившуюся оценку характеристик персонажей Торы. Комментарий касается только повествовательной части Торы и ни в какой мере не приближается к ее законодательной части.
120 ₽
Другие предложения магазина
Электронные книги
80 ₽
Электронные книги
396 ₽
Электронные книги
80 ₽
Электронные книги
148 ₽
Электронные книги
276 ₽
Электронные книги
256 ₽
Похожие предложения
Электронные книги
400 ₽
Электронные книги
280 ₽
Электронные книги
800 ₽
Электронные книги
200 ₽
Электронные книги
374 ₽
749 ₽
50%
Электронные книги
596 ₽
Электронные книги
200 ₽
Электронные книги
45 ₽
Электронные книги
45 ₽
Электронные книги
80 ₽
450 ₽
Электронные книги
100 ₽
200 ₽
50%
Электронные книги
769 ₽
1 900 ₽
60%
Ключи активации
7 500 ₽
10 650 ₽
30%
Электронные книги
59 ₽
Электронные книги
200 ₽
Электронные книги
250 ₽
339 ₽
Электронные книги
349 ₽
Цифровые товары
728 ₽
Электронные книги
276 ₽
450 ₽
195 ₽
Покупателям
Партнёрам
Мы в соцсетях
Мы в соцсетях
Наши проекты
Наши проекты
2021-2024 © Wildberries Цифровой, Wildberries v13.3.52. На торговой площадке digital.wildberries.ru применяются рекомендательные технологии.Адрес для направления юридически значимых сообщений: info@digital-wb.ru