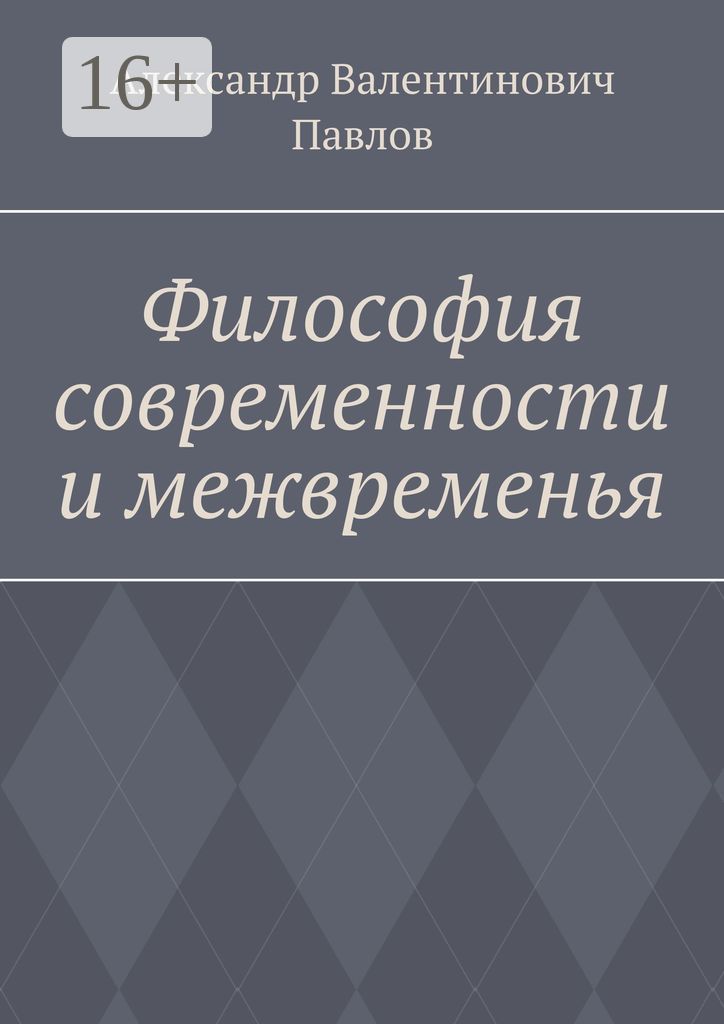Философия современности и межвременья
Нет оценок
Более 10просмотров
Менее 10покупок
16+
Описание
Характеристики
Цитаты
Отзывы
Книга представляет собою философский анализ переживаемой современности. Ставятся вопросы о разработке гуманитарной теории, о ее отличии от естественнонаучной, о методологии и онтологии современности. Вводятся идеи социокультурной парадигмы и ментального портрета, как программы социогуманитарных наук. Обосновывается переход к неомодерну, как перспектива общественного развития. Книга адресована тем, кого интересуют проблемы современного мира.
120 ₽
Другие предложения магазина
Электронные Книги
240 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Электронные Книги
40 ₽
Электронные Книги
276 ₽
Электронные Книги
160 ₽
Электронные Книги
480 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Электронные Книги
280 ₽
Электронные Книги
40 ₽
Похожие предложения
Электронные Книги
400 ₽
Электронные Книги
280 ₽
Электронные Книги
80 ₽
Аудиокниги
99 ₽
Электронные Книги
240 ₽
Электронные Книги
400 ₽
Электронные Книги
88 ₽
Электронные Книги
120 ₽
Электронные Книги
490 ₽
Электронные Книги
296 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Электронные Книги
40 ₽
Электронные Книги
340 ₽
Электронные Книги
480 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Электронные Книги
6 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Электронные Книги
200 ₽
Покупателям
Партнёрам
Мы в соцсетях
Мы в соцсетях
Наши проекты
Наши проекты
2021-2024 © Wildberries Цифровой, Wildberries v11.14.9. На торговой площадке digital.wildberries.ru применяются рекомендательные технологии.Адрес для направления юридически значимых сообщений: sales@wildberries.ru